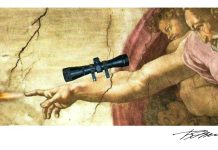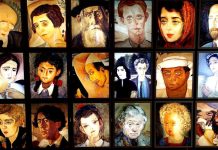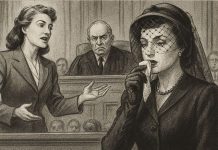Скончался выдающийся eвpeйский деятель и этнограф-востоковед, член президиума Всемирной сионистской организации, член Совета директоров еврейского агентства «Сохнут», генеральный секретарь Евроазиатского Еврейского конгресса профессор Михаил Членов. Ему было 83 года
Не только друзья, но и малознакомые люди называли его детским именем Мика. Именно так Михаил Анатольевич часто представлялся при знакомстве, даже будучи весьма солидным человеком.
Михаил Членов родился 26 сентября 1940 г. в Москве в семье искусствоведов, указывает Википедия. Мать — Нина Александровна Дмитриева, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Отец — Анатолий Маркович Членов (1916, Баку — 1990, Москва), журналист, переводчик, участник Великой Отечественной войны. Дед, Марк Николаевич (Мордух Нисонович) Членов (1890—1942), уроженец Новозыбкова, в 1917 году был редактором газеты «Горский голос» в Грозном, впоследствии редактором журнала «Маслобойно-жировое дело» и главным редактором журнала «Новый мир» (1938—1941). Дядя — детский писатель Анатолий Филиппович Членов.
Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 годах находился в эвакуации в Моршанске. По окончании войны, с 1946 по 1948 год, жил в Германии, занятой советскими войсками, вместе с отцом, имевшим звание капитана Советской Армии и служившим в советской администрации города Веймара.
В 1963 году уехал в Индонезию, два года провёл на востоке этой страны, занимаясь этнографическими исследованиями.
В 1965 году окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «востоковед-историк», защитил кандидатскую диссертацию «Очерки по этнической истории народов Центральных Молукк (Индонезия)».
С 1969 года работал в качестве этнографа, изучая этносоциальные процессы у народов севера РСФСР, включая эскимосов, чукчей и ненцев. Участвовал более чем в двадцати полевых этнографических экспедициях в районы российской Арктики, Средней Азии, Закавказья.
В 1976 году открыл археологический памятник циркумполярной зоны — древнее святилище «Китовая аллея» на острове Итыгран в Беринговом проливе.
Автор двух монографий и около 150 научных публикаций по различным проблемам этнографии, лингвистики, социологии и смежных дисциплин.
С начала 1970-х годов Членов участвовал в деятельности независимого еврейского национального движения — сперва в СССР, затем в России. В 1971 году он начал изучать иврит, а с 1972 года преподавал этот язык. В 1981 году Членов создал Еврейскую историко-этнографическую комиссию.
Являлся членом совета и вице-президентом общественной организации «Федеральная еврейская национально-культурная автономия».
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
* * *
Разумеется, наши израильские читатели при упоминании фамилии Михаила Анатольевича задумываются – не имеет ли он отношение к выдающемуся деятелю сионистского движения Иехиэлю (Ефиму) Членову, именем которого названа одна из центральных улиц Тель-Авива. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из интервью Членова израильскому публицисту и политику Юлию Кошаровскому, опубликованного на сайте kosharovsky.com. Интервью взято 31 января 2004 года.
– Я уточню, что меня интересует. В Тель-Авиве есть улица Членова, имеются известные деятели сионистского движения с такой фамилией, то есть у фамилии Членов очень глубокие сионистские корни. Меня интересует, в какой степени эта корневая система имеет отношение к тебе и повлияло ли это на твое формирование.
– Я родился 26 сентября 1940 в Москве в семье, которая на самом деле не была семьей, поскольку мои отец и мать хоть и были женаты, вместе никогда не жили. Раннее детство я провел, перепрыгивая из семьи матери в семью отца. Что касается Ефима Владимировича Членова, или Иехиэля Членова, в честь которого названы улицы, то он является очень дальним моим родственником, двоюродным братом моего прапрадеда.
Когда я уже был достаточно взрослым, лет двадцати, залез в Еврейскую энциклопедию, увидел там статью о нем, и тогда понял, что такой человек был. Как ты понимаешь, на мое формирование эти родственные отношения никакого влияния не оказали, ибо в процессе моего становления я о нем ничего не знал. Это уже сейчас я в близких отношениях с его внуком, который живет здесь в Израиле.
– У нас стало популярным исследовать семейную генеалогию и воссоздавать родственные связи.
– Дело в том, что когда я первый раз приехал в Израиль в 89-м году, меня тут же нашли его внуки. У него здесь внучка и внук. Внук живет в кибуце Нахаль Оз в Газе (интервью было взято до размежевания в Газе – Ю.К.) и зовется тоже Иехиэль Членов, а внучка Тальма Левин замужем за внуком Шмарьягу Левина, тоже из еврейской аристократии. Знаешь, наверное, что Шмарьягу Левин был известным деятелем сионистского движения начала двадцатого века. Когда я приехал, в газетах промелькнули сообщения о нашей делегации во главе и т. д., и они меня нашли. Сейчас я с ними в очень хороших отношениях, много знаю про Ефима Владимировича, но в моем становлении роли это не сыграло.
– Твои папа и мама тоже не очень простые.
– Мама умерла около года тому назад. Она была крупнейшим искусствоведом в России и получила сейчас, посмертно, Государственную премию, что является редчайшим случаем. Во-первых, потому что посмертно, а во-вторых, потому что искусствовед получил премию по разделу искусства. Обычно эту премию дают художникам. Моя мама – чуть ли не единственный случай. Она была крупным и известным человеком. По книгам Дмитриевой сейчас преподают на всех искусствоведческих факультетах.
– Дмитриева?
– Дмитриева Нина Александровна. Она из потомственной дворянской семьи Тульской губернии, обедневшей, правда. Получила хорошее воспитание. Оба мои родителя окончили в 30-х годах знаменитый ИФЛИ – Институт философии, литературы и искусства. Там они и познакомились. Это был студенческий брак. Мама была и до сих пор является большим авторитетом в творческой среде. Она автор первых книг о Пикассо, о Ван Гоге – тогда запрещалось о них писать в Советском Союзе из политических соображений. Она — автор знаменитого двухтомника краткой истории всемирного искусства. Уже сейчас, на склоне лет, в Париже вышел ее огромный том «Art Russe», т.е. «Русское Искусство» и т.д. Она была своеобразным человеком: была, например, близка с Александром Владимировичем Менем. В последние годы жизни он у нее если и не жил, то проводил многочисленные лекции. Это был очень тесный союз: не союз любви, этого не было – она была уже в возрасте, но союз близких людей. При этом она никогда не была религиозной женщиной, но любила, скажем так, баловаться с религией, ну, как многие в своем роде. И она была очень эрудированным человеком. Это о матери. Теперь об отце. Семья Членовых – выходцы с территории на границе России, Украины и Белоруссии. Есть там, в Брянской области городишко Новозыбков – это корень. Я как-то съездил в Новозыбков в 90-х годах…
– Деревня?
– Отнюдь. Он, правда, в Чернобыльской зоне оказался. Новозыбков известен еще и тем, что он является старинным центром русского старообрядчества. Я там нашел могилы прабабушки и прадедушки. Бабушка и дедушка, отцовские мать и отец, покинули Новозыбков в 20-х годах. Сначала они подались в Харьков, а с 26-го года поселились в Москве. Семья достаточно интеллигентная, вышедшая из той среды, которую я называю «просвещенное еврейство». Они не были Хабадниками, местечковыми и прочее. Отнюдь, это были просвещенные евреи, жившие в местечке, но относившиеся к местной интеллигенции.
– Твой дед, отец твоего отца, чем занимался?
– Марк Николаевич (Мордух Нисонович) Членов прошел довольно сложную карьеру. У него было полуинженерное образование типа реального училища. Когда началась Первая мировая война, они с моей бабушкой поженились в Петербурге, куда ездили к родственникам. На войну он идти не хотел, и судьба занесла его в Баку, где брат моей бабушки Моисей работал инженером-нефтяником. В Баку в 1916 году родился мой отец. Когда началась гражданская война, Моисей решил не возвращаться домой, уехал в Палестину и умер в Тель-Авиве в 50-х годах. А бабушка и дедушка решили вернуться назад в Новозыбков. Эта авантюрная история хорошо описана в дневниках моей бабушки – как они в гражданскую войну полгода добирались из Грозного до Новозыбкова. Они кочевали с каким-то театром. Каждый город принадлежал какой-то другой власти. В каждом городе дедушке выдавался какой-то подорожный пропуск, который потом надо было уничтожать, приезжая в другой город, потому что там власть другая. Дедушка мой, имея техническое полуобразование, тем не менее, в душе всегда был гуманитарием и в Грозном в 17-м году стал главным редактором газеты «Горский голос». Тогда там была Горская Республика – некое полунезависимое образование. Одним из ее руководителей был дедушка Рашида Капланова, нашего «князя». Ты знаешь его – он сейчас возглавляет общество «Сэфэр» в Москве. (Капланов стал известным историком, специалистом по иудаике, умер в 2007 году).
– В чистках 37-го года антиеврейский компонент присутствовал или это была общая чистка?
– Общая. Теперь, что меня сложило как еврея? Оказалось так, что я вырос в семье отца. Отец и мать сильно конфликтовали. В 46-м году отец приехал из Германии, где он остался служить после войны, пройдя ее от начала и до конца. Он сказал, даже потребовал, чтобы меня привели к нему, соврал, что демобилизовался. Мне было тогда пять с половиной лет. На следующий день он увез меня с собой в Германию, никому слова не сказав. И я два с половиной года прожил в Германии с отцом в семье его немецкой возлюбленной. То есть я вырос как немец.
– У тебя это похищение не оставило никакой травмы?
– Наоборот. Когда мы вернулись в 48-м году, мать тоже собиралась меня похитить. Она организовала похищение 20 августа 1948 года. Мне тогда было уже почти восемь лет. Она вместе с друзьями приехала в отцовский дом и вытащила меня через окно, то есть подала через окно, меня подхватили мужские руки и потащили через двор в машину. Я начал дико кричать, меня отбили. После этого в течение 11 лет – до окончания школы – я мать не видел. Здесь важно подчеркнуть, что семья, в которой я рос, была безусловно еврейской. Такой компактный мощный еврейский клан Членовых и Коганов. Еврейство присутствовало там не на уровне религии и молитв, а на уровне повседневной жизни: воспоминания, разговоры, поведение, еда, идиш, много рассказов про жизнь в Новозыбкове, про то, что представляло собой еврейское местечко.
– Это было уже после того, как ты вернулся из Германии. Немецкий период в тебе что-нибудь оставил?
– Очень много. Я не буду говорить о том, что я испытываю любовь и симпатию к этой стране. Я ее не только люблю, она мне понятна, она пришла ко мне из детства. И все мои немецкие воспоминания исключительно позитивны.
– Несмотря на полную разруху в то время?
– Мы жили в городе Веймар в Тюрингии, до которой война не дошла, и Веймар не был разрушен. Я рос в очень интеллигентной немецкой семье. В ней было еще двое детей, которых я до сих пор считаю братьями и продолжаю поддерживать с ними связи. Один из них приезжал ко мне в гости в Москву, я у них бывал.
– Это была семья какого-то эсэсовского бонзы?
– Не эсэсовского, отнюдь. Их отец был полковником вермахта. Он сидел в американском плену, потом вышел и умер где-то в 60-х. У меня сохранилось ощущение, что я получил немецкое воспитание, которое было для меня еще и европейским воспитанием. Я получил хорошее европейское воспитание и был лишен благодаря этому многих травм, которые испытывали люди нашего поколения, когда они должны были выходить из советской реальности, переосмысливать идеи коммунизма, советской власти, и прочее, и прочее.
– Когда я размышляю о живучести антисемитизма, который волнами поднимается и накрывает европейскую цивилизацию, то не могу избавиться от ощущения, что сама христианская культура его порождает. Народ, распявший их бога… оставим в стороне еврейского религиозного диссидента, ставшего их Б-гом, и что не евреи распяли, и что в те времена тысячами распинали, и что было это очень и очень давно, и что с точки зрения современной юридической культуры это полный нонсенс… Тезис о коллективной ответственности евреев на все времена вдалбливается с детства.
– Ну конечно. Существует такой тезис, что антисемитизм – это часть культурного кода христианской цивилизации. Наверное, с этим можно согласиться. Но мы видим также, что положение евреев в христианском мире определялось не только этим. Тем более, что христианство весьма многообразно, есть разные течения, по-разному выстраивающие этот культурный код. Но, в принципе, да.
Я лично этого не ощущал. Если говорить о моих еврейских ощущениях в германский период, то я их не помню.
– Отец тебе ничего не объяснял?
– Был один момент, который остался в памяти. Из него следует, что да – объяснял. Я очень увлекался географическими картами. Был там атлас 19-го века, который я любил рассматривать. И вот первое осознанное воспоминание: я рассматриваю территорию Палестины. Это традиция христианской картографии: атлас обязательно должен иметь карту Палестины. Так вот, я рассматриваю карту Палестины и понимаю, что это моя страна. Как это произошло, понятия не имею, но это первое еврейское, что я могу вспомнить из моего германского периода, ощущение того, что я еврей, что я принадлежу к этой расе, а не к Веймару и не к забытой мною в то время Москве.
– А когда ты по-настоящему почувствовал?
– В 48-м году мы возвращаемся в Москву – не лучший год возвращаться в Москву, как ты понимаешь: убили Михоэлса, арестовали антифашистский комитет.
– Начало борьбы с космополитами.
– И с генетиками, помнишь Лысенко – тоже 48-й год. Отец возвращается, он искусствовед по профессии. Кончилась его немецкая жизнь, оставшаяся у него тоже светлым образом, и он должен был как-то жить в Москве, а на работу он устроиться не смог: не брали евреев. Не брали никуда. И с 48-го до 53-го года он безработный – пять лет! Работала бабушка, а он продавал потихоньку то, что привез из Германии: книги у него были хорошие и прочее. Этот период жизни был очень важен и для меня. Отец, когда он понял, что происходит, вспомнил, что он еврей.
– Вспомнил или напомнили?
– Он всегда знал и многое понимал, но это не было главным в его жизни. У него была профессия, он окончил два института.
– А какой был второй?
– Не второй, а первый. Он окончил вначале институт новых языков. Новых – в смысле не древних. Так он назывался – «МИНЯ». Иудаизм и христианство были для него составляющими мировой культуры. Он был очень грамотный, очень эрудированный человек. У него не было идеи вернуться к еврейским корням, они как бы никогда и не исчезали. Русское просвещенное еврейство стояло в начале прошлого века на пороге реформ, которые должны были дать евреям реформированный вид еврейской религии. Это шло тогда, и моя семья была вполне в русле этого движения. Они не были верующими, но вместе с тем там была в определенной степени еврейская традиция.
– Евреев не брали на работу, выкидывали отовсюду. Они ведь эффективные и образованные работники. Ты с сегодняшних позиций можешь объяснить, зачем это нужно было государству?
– На эту тему довольно много написано…
– Меня интересует твое мнение.
– Я думаю, что это можно объяснить логикой развития и становления советского тоталитарного государства, тоталитарного режима. Этот режим все время жил на грани экономического и социального кризиса. Сталин был в определенном смысле гением, потому что смог ценой чудовищных жертв сделать то, что хотел. Это требовало многих вещей, в том числе постоянного поиска врага. Их было много разных… буржуазия, троцкисты и прочее. Дошла очередь и до евреев. Когда идея борьбы с буржуазией и братания пролетариев ушла из сознания народных масс, надо было дать что-либо более понятное. Вот – инородцы, жиды.
– Евреи часто играли эту роль в истории… их иногда принимали для того, чтобы потом объединить против них народную массу.
– Я думаю, что так… Отец вспомнил, что он еврей, но свое еврейство он воспринимал не таким, каким оно когда-то было в Новозыбкове. Ни молитвы, ни кашрута не было… и не потому, что забыли или боялись, просто от этого веяло отсталостью. Отец открывает для себя сионизм.
– Какие это годы?
– 48-й – 50-й.
– Сколько лет ему было?
– За тридцать, самый зрелый возраст. Да, но при этом некоторые традиции соблюдались: у нас, например, всегда была маца на Песах. Меня стали посылать в синагогу за мацой еще при Сталине, в десятилетнем возрасте. В синагоге членом двадцатки был мой двоюродный прадед, старик Менахем-Мендель Членов (мы звали его «дедой Меней»), который прожил почти до ста лет и был единственным религиозным евреем в семье, в нашем клане. Я приходил туда и говорил: «Маца фор Членов» – на идише. Мне сразу выдавали.
– Твой отец страдал пять лет без работы, прекрасно понимая, что это из-за его еврейского происхождения, а ты как воспринимал этот период?
– Я в первую очередь интересовался у него, почему мы не уезжаем обратно в Германию. Я мечтал уехать обратно в Германию и забыть Советский Союз навсегда. Он мне очень не понравился после Германии. И отец объяснил мне, что все из-за Сталина, что Сталин мерзавец, негодяй и тиран. Я с детства знал, что коммунизм — это сплошная дурость, что Ленин дерьмо просто… У меня никогда не было по этому поводу разочарования, переосмысления. Я был таким европейским мальчиком, который оказался в каком-то странном окружении. Но что было делать? Надо было жить, надо было ждать, когда Сталин умрет. И когда он умер, как сейчас помню, меня в школе заставили стоять у его портрета. Я там стоял и не мог сдержать улыбку. Я прибежал домой с криком: «Папа, поехали!»
– В Германию?
– Конечно! Да, так отец открывает для себя сионизм, находит соответствующих приятелей, один из них художник Павел Львович Бунин, живущий сейчас в Москве (умер в 2008г.). В семидесятых годах он уехал в Израиль, прожил там полгода, уехал в Европу и вернулся в перестроечные годы. Но тогда они вместе горели сионизмом, Павел был много моложе отца.
– Возрождение Израиля в 48-м году повлияло или что-то другое?
– Нет, главное, конечно, – это дискриминационная обстановка и то, что не могли устроиться на работу. Я не помню сам факт образования Израиля в 48-м году, мы тогда находились в Германии. Отец что-то по этому поводу думал, что-то знал, но до меня это тогда не дошло.
– Вы жили в Германии с ее лагерями смерти, с тотальным уничтожением евреев…
– Я ничего такого не слышал. Это сейчас об этом много говорят, и об этом говорили депортированные евреи, прошедшие Шоа, которые там же совсем рядом были. А я был совершенно в другом положении. Рядом с нами там был Бухенвальд, но я ничего не слышал о нем. Шоа на меня не очень повлияло…
– И на отца тоже?
– Он как бы знал, но это не было главным, не было доминантой. Потому что рядом с Шоа был он, победитель, прошедший всю войну с армией-победительницей – это было важно. Не забудь, что Шоа начало звучать как очень крупное явление позже. Тогда еще была жива жуткая травма от войны вообще, и Шоа было ее частью. Это сейчас Катастрофа звучит, как нечто из ряда вон выходящее. А тогда – да, евреев убивали, – война!
Да, сионизм. Они с Павлом Буниным начинают доставать книги. В доме появляется Герцль на немецком, прекрасный двухтомник Жаботинского на русском. Я спросил недавно у Павла: «Откуда был Жаботинский?» – «Как откуда, от Корнея». А Павел был вхож к Корнею Чуковскому, который считал Жаботинского своим учителем. Этот двухтомник попал к нам с дарственной надписью самого Жаботинского. Владимир Евгеньевич там написал что-то типа «Моему ученику Корнею Чуковскому». Так что в период от 8 до 15 лет я получал массированную накачку, как это умел делать только мой отец. Он умел надавливать, и для меня это тоже было как бы расхожей вещью. Ну, сионизм, понятно – наше движение. Восприятие отца в то время можно было определить так, что между царем Давидом и Давидом Бен-Гурионом лежало временное пространство, которое ему не было интересно. В этом промежутке были другие интересные вещи. В промежутке была Англия, давшая концепцию прав человека – эту Великую хартию вольностей. Поэтому отец с раннего детства, чуть ли не с семи лет, вечерами перед сном читал мне, переводя отрывки из английской истории. То есть я постоянно читал что-то по сионизму и слушал, как эти два мужика между собой дискутировали.
– Ты знаешь, сколько людей пошло по этапу из-за сионизма в те годы?
– Знаю, но дело в том, что они ничего не делали, кроме того, что разговаривали между собой, читали книги и воспитывали меня. Они никогда не пытались ничего делать – установить там связь с израильским посольством, распространять… Они были интеллектуалами, которые разбирались с этим для себя – такие романтические сионисты. Помню, собирались у нас тетушки, а отец ходит по комнате и возбужденно кричит: «Еврей – это значит сионист». А они ему: «Да, да, успокойся, успокойся». – «Нет, я не успокоюсь. Еврей – это значит сионист, мы должны… мы обязаны…» Понятно, доставалась какая-то литература про Израиль, но не обязательно израильского производства. Отец же знал много языков – французский, немецкий, английский, испанский. Кроме того, каждый вечер мы слушали радио, и там было много интересных вещей на любых языках.
– Антисемитизма не чувствовал…
– Антисемитизм чувствовал, и это важная вещь. Мои воспоминания об антисемитизме не школьные, они относятся в основном к периоду «Дела врачей». Этот период я вспоминаю с большой неприязнью.
– Ты был записан евреем?
– В школе не писали, и травли в школе не было. Но я же жил в доме, еврейская семья… Путь из школы через двор… – да, травили гады. И как я понял позже, среди тех, кто травил, евреи тоже были. Я был маленьким слабым мальчиком…
– Так это было из области удобной жертвы.
– Да, евреев было много вокруг, а я был маленьким, слабеньким мальчиком, не умел драться. Я был всегда ниже всех и поэтому не входил в дворовую элиту. А другие еврейские ребята, которые были покрепче, входили, но скорее не как евреи. Помню, лежу я дома и слышу через открытое окно: двое дворовых, один из них местный «король», переговариваются. «Король» говорит: «Я никогда не думал, что Чинарик – еврей». А Чинарик входил в их группу. «А-а-а, – думаю, – вот вам, гады!» Это было очень неприятное время: травля семьи, надписи на стенах, на двери – у нас был отдельный подъезд, это соседи, внезапно восставшие против нас. В этой ситуации я, конечно, был евреем и никем другим быть не мог. Я ведь жил без матери.