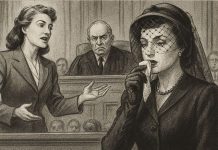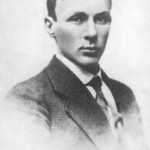Сегодня — день рождения великого писателя. И, как водится, журнал "ИсраГео" предлагает читателям нечто малоизвестное
Владислав КАЦ, Нетания
"Прошлое столь же непредсказуемо, как и будущее". Убеждался в этом не однажды. Помню, какой сенсацией для саратовских краеведов явилось сообщение о том, что Михаил Афанасьевич Булгаков неоднократно бывал в Саратове, да к тому же и первая жена его, Татьяна Николаевна, урожденная Лаппа, свои юношеские годы провела в этом городе. Она происходила из семьи действительного статского советника Н.Н.Лаппа, который возглавлял губернскую Казенную палату и слыл большим специалистом в области финансов
Романтическая любовь киевского студента Михаила Булгакова и саратовской гимназистки Таси Лаппа не была скоротечной. Наперекор воле родителей возлюбленные пять лет вели борьбу за право сочетаться законным браком или обвенчаться. Немало драматических моментов им пришлось пережить — впрочем, трудности, как известно, укрепляют чувства.
Начиная с декабря 1911 года Михаил Булгаков приезжал в Саратов каждый год, а то и по два раза в году. Он не мог оставаться без неё, когда Татьяна уезжала на каникулы к родителям.
Сестра писателя, Н.А.Булгакова-Земская, писала:
"Мишино увлечение Тасей и его решение жениться на ней. Он все время стремится в Саратов, где она живет, забросил занятия в университете, не перешел на 3-й курс". 20 авг. 1912 г.: "Миша вернулся — en deux с Тасей; она поступает на курсы в Киеве. Как они оба подходят к друг другу по безалаберности натур! (В 1940 г. исправлено: по стилю и по вкусам). Любят они друг друга очень, вернее — не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит… (16 окт. 1916 г. сделано примечание: "Теперь я бы написала наоборот".
Свадьба М.А.Булгакова, в конце концов, состоялась, 26 апреля 1913 г. по старому стилю. Начиная с этого года Булгаков посещает Саратов на правах законного мужа Татьяны Николаевны.
Пребывание молодых супругов в Саратове летом 1914 года долго оставалось в их памяти как волшебный сон. Даже начавшаяся 19 июля Первая мировая война поначалу не повлияла на их безмятежную жизнь.
С первых чисел июля Михаил Булгаков находится недалеко от Саратова. Вместе с женой Татьяной Николаевной он гостит на загородной даче. Тесть Булгакова, Николай Николаевич, не первый год снимает на лето дачу в ближайшем пригороде. Отдыхают весело, всей семьёй. К ужину приезжает после работы Николай Николаевич и за вечерним чаем рассказывает городские новости.
В среду обедали поздно: ждали Николая Николаевича. Он приехал возбужденный, сообщил, что получено высочайшее повеление государя "привести армию и флот на военное хозяйство".
Первым днем мобилизации назначено 17 июня. Тут уж стало не до отдыха. Однако о возвращении молодых в Киев не могло быть и речи. Николай Николаевич и супруга его Евгения Викторовна в один голос заявили: "Вас ничто не должно касаться! Отдыхайте, набирайтесь сил. У вас все еще впереди. Неизвестно, как сложатся обстоятельства дальше!" Они оказались правы.
На улицах бурлили страсти. С площадей, где устраивались манифестации, неслись призывы: "Постоим за братушек-славян!", "Долой Австрию! Да здравствует Сербия!"…
В Мирном переулке развернул работу призывной участок. Городское по воинской повинности присутствие обязало нижних чинов запаса явиться к 6 часам утра на второй день призыва на сборный пункт. К полудню вся Митрофаньевская площадь, к которой он прилегал, словно в базарный день, заполнилась народом.
На площадях города управой были организованы 38 пунктов для приготовления пищи призванным нижним чинам.
Под широким навесом специальная комиссия отбирает на военные нужды лошадей.
Происходит все это неподалеку от Дома министерства финансов, где находится Казенная палата. Отсюда, из окон третьего этажа, хорошо просматриваются и базарная площадь, и Лысая гора за вокзалом, и обрывающаяся к Волге Соколовая гора — словом, едва ли не весь город, с вырвавшимися над пенной зеленью деревьев многочисленными маковками, куполами, шпилями, башнями церквей православных, а также лютеранской и католической.
Июльские газеты сообщали, что в казенных и общественных заведениях приостановлены работы. "Будем ли воевать?" — этот вопрос волнует всех. По распоряжению полиции в городе закрыты все казенные лавки, трактиры, ренсковые погреба и пивные лавки. Пьяные на улицах попадаются редко.
У входа в парк "Липки" старый вояка, бывший на японской войне, рассказывает окружившим его гуляющим про бои под Тюренгеном: "Теперь лучше будет, — заключает он свой рассказ, — потому что с нами Англия!"
В саду "Приволжский вокзал" по-прежнему звучит вечерами оркестр, благоухают цветы, а посетители лакомятся мороженым, подающимся в мельхиоровых вазочках.
Владелец табачного магазина Згуриди отправил губернатору в качестве презента только что полученные из Каира папиросы "из лучшего в мире турецкого табаку". Спустя полвека сын саратовского торговца папиросами, Александр Згуриди, приобретёт мировую известность в качестве президента Международной ассоциации научного кино, Героя Соцтруда и трижды лауреата Сталинской премии.
А вот пивоваренный завод "Гофман", выпустивший в продажу "превосходное выдержанное пиво, приготовленное мюнхенским специалистом-пивоваром", как никто, остро почувствовал приметы войны. Господа — любители пива, будто сговорились, дружно игнорировали немецкий товар, а кое-кто требовал немедля переименовать Немецкую улицу (ныне проспект имени Кирова).
Германский консул срочно выехал из Саратова, передав все дела о защите германских подданных американскому консулу в Ростове-на-Дону. Правда, в городе оставался вице-консул, господин Эрт, но его задерживали здесь меркантильные интересы. Вице-консул, между делом, имел в Саратове завод и домовладения.
Помимо господина Эрта немалыми капиталами ворочали здесь владельцы мощных мельниц, точнее сказать, мукомольных заводов — Шмидт и Борель. Мукомольное производство в губернии, сосредоточенное в руках нескольких хозяев, давало каждый год по нескольку миллионов рублей дохода.
Процветали также завод Гантке, торговый дом Рейнеке, типографское предприятие Авербаха… На этой фамилии следует ненадолго задержаться. Верно, интересующий нас Авербах, по имени Леопольд, в описываемый период едва достиг одиннадцатилетнего возраста. Однако всего через пять лет он станет членом ЦК Союза молодежи и возглавит затем в Москве редакцию газеты "Юношеская правда"… Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу "напостовцев" осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь — его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.
Летом 1925 года, когда в издательстве "Недра" выйдет сборник Михаила Булгакова "Дьяволиада", то одним из первых откликнется на него рецензией в газете "Известия" тот самый, некогда саратовский мальчик Леопольд Авербах, ставший к тому времени одним из идеологов и руководителей Российской Ассоциации пролетарских писателей (РАПП). И будут в той рецензии следующие строки: "…неужели Булгаковы будут и дальше находить наши приветливые издательства?.. Рассказы М.Булгакова должны нас заставить тревожно насторожиться. Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета".
Но вернёмся в Саратов 1914 года. В городе образуется губернский комитет по оказанию помощи раненым. Саратов назначен окружным пунктом для распределения раненых. Одними из первых в комитет обращаются немцы-колонисты. Движимые патриотическими чувствами, они заявляют о своем желании собрать до 50 тысяч рублей. На эти средства они готовы под флагом Всероссийского земского союза открыть лазарет для раненых на сто коек.
Однажды за ужином Михаил Булгаков и его обаятельная Тася узнали, что Николай Николаевич участвовал в общем собрании членов местного общества Красного Креста, где доложил губернатору, что чиновники Казенной палаты решили создать госпиталь на двадцать кроватей. Содержаться госпиталь будет на ежемесячные отчисления из жалованья. Евгения Викторовна Лаппа согласилась заведовать лазаретом. Весь лазарет состоял из двух просторных палат, на десять коек каждая, кухни и перевязочной.
Главным врачом всех лазаретов был профессор В.И.Разумовский, а лазаретами в университете и в Казённой палате ведал профессор С.И.Спасокукоцкий.
19 августа губернский комитет по оказанию помощи раненым на своем очередном заседании с удовлетворением отметил готовность города к приему раненых: оборудовано более 20 лазаретов, в том числе в университете, губернском земстве, крестьянском банке, VI смешанном училище, духовном ведомстве, здании Рязано-Уральской железной дороги, Сергиевской церкви… Всего на 2183 койки.
Н.Н.Лаппа сообщил членам комитета о передаче в ведение земского союза лазарета, оборудованного в Казенной палате. Питание больных и надзор за хозяйственной деятельностью, подчеркнул он, остаются за служащими палаты, на что ежемесячно отчисляется по 500 рублей. Со стороны земства потребуется расход на медицинский персонал и медикаменты.
Первый санитарный поезд прибыл в Саратов 24 августа около 17 часов. Перрон был заполнен публикой, многие держали в руках букеты цветов. На привокзальную площадь со всего города съехались извозчики, частные автомобили и экипажи.
Вслед за первым поездом раненых начали доставлять в Саратов едва ли не каждую неделю. Только за один месяц, с 24 августа по 24 сентября, через саратовский эвакопункт прошло 2975 раненых, в том числе 903 человека — пленные.
В газете "Саратовский листок" появилась информация: "Лазарет в казённой палате, открытый на средства чинов палаты, оборудован на 20 кроватей. Общее наблюдение за лечением раненых поручено профессору В.И.Разумовскому, а ежедневный осмотр доктору Н.Л.Гуревичу и женщине-врачу Е.А.Куприяновой. Лазаретом заняты две светлые, просторные комнаты в нижнем этаже здания. Уходом за ранеными по очереди заняты жёны и дочери чиновников палаты во главе с Е.В.Лаппа, супругой управляющего казённой палатой. В настоящее время в этом лазарете 10 раненых: А.Пронин, И.Ольховников, А.Тимофеев, И.Становский, П.Исаев, И.Цепков, И.Комоля,. Т.Сахибгиреев, М.Великанов и М.Каблуков".
Летний отдых в Саратове неожиданно обернулся для Булгакова первой медицинской практикой. Приходилось обрабатывать раны воинам, делать перевязки. На двадцать раненых полагалось иметь врача, фельдшера, медицинскую сестру.
Официально Булгаков в списки лиц, работающих по уходу за ранеными, внесен не был. Бескорыстно и добровольно проводил он в лазарете по нескольку часов ежедневно. Для раненых его присутствие и помощь были как нельзя более кстати — единственный мужчина в их окружении. К тому же внимательный, быстрый и разбирающийся в медицине человек.
Долго поработать в лазарете Булгакову не пришлось. После летних каникул и отпусков возобновлялись занятия в университете. Надо было возвращаться в Киев.
Киев находился в тревожном ожидании немецкой оккупации. Весной 1915 года Булгаков подал прошение о службе врачом в морском ведомстве, однако был признан негодным к несению военной службы по состоянию здоровья. После получения разрешения ректора университета, Булгаков поступил на работу в Киевский военный госпиталь на Печерске, а его альма-матер, Киевский университет, по решению правительства вскоре был эвакуирован в Саратов. Отступление армии сопровождалось эвакуацией населения, промышленных и торговых предприятий, скота и т.д.
Из книги бывшего студента Киевского университета профессора Николая Полетика "Воспоминания":
"Отступление армии сопровождалось массовым принудительным выселением евреев из оставляемых районов. В апреле-мае 1915 г. были выселены евреи из прифронтовых районов Ковенской, Курляндской (курляндские немцы, с ликованием встречавшие немецкие войска, были оставлены в Курляндии!), Сувалкской и Гродненской губерний. В числе этих беженцев было около 200 000 стариков, женщин и детей. Часть их была посажена в товарные вагоны и вагоны для скота, и их везли, поистине, как скот, не выпуская из вагонов на станциях. Плач детей, рыдания и стоны матерей, молитвенные песнопения стариков стояли в воздухе. Вначале евреев вывозили в глубокий тыл в левобережную Украину и в восточные районы Белоруссии, но в августе 1915 г. все же пришлось временно отменить черту оседлости и "беженцы-евреи" были на время войны допущены во внутренние великорусские губернии".
Почти одновременно с университетом в Саратов прибывает из Киева также Коммерческий институт. В числе его студентов находился будущий корифей советской литературы Исаак Бабель.
Исследования саратовского историка Стива Левина позволили уточнить время пребывания Бабеля в Саратове. Оно было недолгим. В августе 1916 года он вместе с институтом возвратился в Киев, а осенью того же года оказался в Петрограде. По мнению С.Левина Саратов явился своеобразным трамплином, с которого Бабель совершил свой первый взлет в русскую литературу: его заметил М.Горький и опубликовал в своем журнале "Летопись" рассказы молодого писателя "Мама, Римма и Алла" и "Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна". Рассказы и миниатюры Бабеля печатают и другие столичные периодические издания.
Михаил Булгаков в описываемый период работал врачом в прифронтовых госпиталях Каменец-Подольска и Черновиц. Его жена Татьяна Лаппа сопровождала мужа повсюду.
Почти через полтора года после окончания университета Михаил Булгаков получил в Киеве свой диплом об утверждении "в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными".
Очередное посещение Булгаковым Саратова относится к февралю 1917 года.
Три года назад в Саратове он узнал о начале войны. В этот раз взволнованный Николай Николаевич Лаппа сообщил членам своей семьи о свержении царя.
И снова на улицах толпы людей, митинги, демонстрации… Примечательно также, что к этому времени относится и пребывание в Саратове будущего исполнителя роли Ивана Васильевича в спектакле по пьесе М.Булгакова "Зойкина квартира", поставленном в театре имени Евг. Вахтангова, — Б.В.Щукина. Он же, между прочим, был одним из первых советских актёров, воплотивших на сцене и в кино образ Владимира Ильича Ленин, заложил традиции исполнения этой роли.
В Саратове Щукин оказался после ускоренной подготовки в Александровском военном училище, будучи назначен на службу в запасной полк, стоявший в Саратове.
Последний раз Булгаков посетил Саратов незадолго до окончания года. Поездку пришлось предпринять по просьбе родителей жены. Николаю Николаевичу удалось решить вопрос о переезде в Москву и работе там управляющим Московской Казённой палатой. Часть ценных вещей и имущества родители решили отдать дочери.
Поездка оказалась нелегкой. На каждой станции поезд стоял по три-четыре часа, составы осаждали толпы возвращавшихся с фронта солдат. В Саратове с наступлением сумерек люди опасались выходить из домов. Участились случаи грабежей, разбоя.
Сохранилось письмо, написанное Булгаковым сестре Надежде 31 декабря 1917 года.
"Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть.
Я видел, как толпы бьют стёкла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве… Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льётся и на юге, и на западе, и на востоке…".
В 1962 году Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская написала: "Татьяна Николаевна пережила с М.А. все трудности вступления в самостоятельную жизнь, годы первой империалистической войны (работа в Красном Кресте), затем скитания, жизнь в с. Никольском (в 40 км от г. Сычевки Смоленской губернии) и Вязьме, переезды, материальные недостатки, каторжную работу в начале литературной деятельности…" М.А. высоко оценивал помощь жены. В письме к матери от 17 ноября 1921 г. из Москвы в Киев он пишет: "Таськина помощь для меня не поддается учету…".
Михаил Афанасьевич и Татьяна Николаевна прожили вместе одиннадцать лет — до 1924 г.
Суровое время, превратившее всю Россию в поле жестоких сражений, не пощадило близких первой жены М.Н.Булгакова Татьяны Николаевны.
Ее отец, Николай Николаевич, недолго проработав в Наркомфине, умер от разрыва сердца. Из четверых его сыновей к двадцатому году в живых не осталось ни одного.
Более милостивой оказалась судьба к представительницам женской половины этой семьи, хотя жизненных невзгод хватило и на их долю.
Евгения Викторовна Лаппа, первая тёща Булгакова, скончалась в 1963 году. Через два года умерла ее дочь Софья Николаевна.
Последней ушла из жизни Татьяна Николаевна, Тася, как любил называть ее Михаил Афанасьевич Булгаков.
В заключение приведу несколько строк из материала журналиста Андрея Куликова, опубликованного 28 октября 2004 г. В газете "Труд": "В местной прессе еще с конца 80-х годов обсуждались планы установки на здании мемориальной доски. Саратовский журналист и краевед Владислав Кац продемонстрировал мне свою переписку с муниципальными чиновниками.
Еще в 1996 году один из городских начальников известил его, что по вопросу "увековечивания памяти писателя М.А.Булгакова готовится проект постановления администрации города, уточняются сроки проживания писателя (именно так! — А.К.) в городе Саратове. О принятом постановлении администрации города Вам будет сообщено дополнительно".
Увы, этот ответ оказался обычной чиновничьей отпиской.
Добавлю от себя, что единственным "украшением" дома, стены которого хранят память о Булгакове, остаётся мемориальная доска с надписью: "Здесь в 1919 году размещался штаб обороны Саратова".